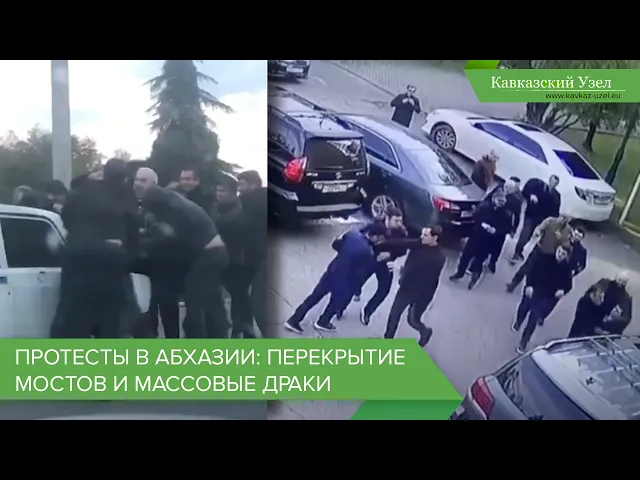Творчество писателя-декабриста А.А.Бестужева-Марлинского в контексте кавказской культуры
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".
Декабристская литература выдвинула из своих рядов писателя, ориентальные повести и очерки которого сыграли огромную роль в окончательном утверждении темы Кавказа в России, оказавшись одновременно и высшим достижением русского романтизма, и преддверием русского реализма. Речь идет об А. А. Бестужеве-Марлинском. В его многочисленных прозаических произведениях тема Востока достигла своего высшего успеха. Достаточно известный еще в 1820-е гг., после появления своих ориентальных произведений в 1830-е гг. он был провозглашен "русским Бальзаком", "Пушкиным в прозе". "В эту эпоху... не Пушкин, не Грибоедов и не "Вечера на хуторе" тревожили умы и внушали всеобщий интерес. Публика охладела на время к Пушкину, с жаром читала Марлинского...", - писал Аполлон Григорьев [1].
На Кавказе Марлинский прожил около восьми лет и благодаря этому имел возможность хорошо ознакомиться с бытом, нравами и условиями жизни местных народов, став одним из крупнейших знатоков "русского Востока" своего времени: "О горах и горцах Бестужев для своего времени знал больше, чем кто-нибудь другой: свои личные впечатления, получаемые им во время многочисленных походов и опасных экспедиций, он систематически и даже с некоторой долей педантизма проверял и обосновывал в чтении специальной литературы" [2]. Ознакомившись с кавказскими произведениями не только русских, но и иностранных авторов и считая, что даже Пушкин лишь "приоткрыл занавес" таинств этого края [3], Марлинский решил показать русскому читателю подлинный Кавказ. В двух планах (очерковом и художественном) осваивая Кавказ, он во многом оказался первооткрывателем. Причем это касается как содержания кавказских произведений писателя-декабриста, так и их жанра.
Используя различные очерковые жанры, писатель в каждый из них внес нечто новое, оригинальное. Так, письма Марлинского не направлены какому-либо определенному лицу; характерно, что "Письма из Дагестана" вообще не имеют адресата. Что же касается "Письма к доктору Эрману", то "адресат" его, некий доктор Г. А. Эрман, "о существовании письма Бестужева... узнал лишь после его опубликования" [4]. Зарисовки Марлинского больше похожи на новеллы: не случайно некоторые исследователи рассматривают их как беллетристику.
Особый интерес представляют кавказские путевые очерки Марлинского, поскольку они создавались в самый период расцвета этого жанра. И по форме и по содержанию они выделяются в русской литературе "путешествий", причем своеобразно уже их название. Еще в начале XIX в. по традиции, идущей от Н. И. Новикова ("Отрывок из путешествия в ***" И. Т.) и А. Н. Радищева ("Путешествие из Петербурга в Москву"), в русской литературе "путешествий" было принято выделять в заглавии произведения место назначения поездки. Подобная традиция сохранила свою силу и в русской кавказской очеркистике 20-х - 30-х гг. XIX в. (анонимная "Поездка в Грузию", "Поездка на Кавказ" Х...Ш..., "Путешествие в Арзрум" А. С. Пушкина и т. д.). Марлинский, нарушая эту традицию, не дает своим путевым запискам общего названия, подчеркивающего пункт назначения автора, а разделяет их на несколько подглавок, заглавия которых фиксируют тот или иной отрезок пройденного пути. Поэтому, хотя путевые очерки Марлинского представляют собой путевые записки одной и той же поездки - переезда из Дербента в Тифлис, они печатаются разрозненно и по традиции рассматриваются в литературоведении как самостоятельные, а потому мелкие, малозначительные произведения. Такое мнение неверно.
В 20-х - 30-х гг. XIX в. многие авторы восточных "путешествий" разделяли свои произведения на главы, в каждой из которых повествовали об отдельном периоде поездки.
Причем одни авторы, построившие свои произведения по приему "Писем русского путешественника" Н. М. Карамзина в форме путевого дневника, отмечали каждую новую главу записью от следующего дня (Н. А. Нефедьев, Н. Б. Голицын, В. Х-ский, Х...Ш...), другие либо разделяли главы нумерацией (анонимный автор "Поездки в Грузию"), либо предпосылали ей краткую аннотацию (С. М. Броневский [5], Г. В. Гераков, А. С. Пушкин), но все эти произведения объединялись общим заголовком.
Идя своим путем, Марлинский посвящает каждому отрезку пути отдельно озаглавленный и, на первый взгляд, вполне самостоятельный путевой очерк. Названия их часто отмечают преодоленные автором части пути: "Прощание с Каспием", "Путь до города Кубы", "Горная дорога из Дагестана в Ширван через Кунакенты", "Последняя станция к старой Шамахе", "Переезд от с. Топчи в Куткаши", "Дорога от станции Адмалы до поста Мугансы". Как видно из перечисленных названий, путевые записки Марлинского не охватывают всю его поездку, обрываясь на середине. Причина этого, по-видимому, в том, что писатель приступил к работе над повестью "Мулла-Нур", первые штрихи которой очерчены именно в данных путевых записках.
Путевые очерки Марлинского создавались в начале 30-х гг. XIX в., когда А. С. Пушкин еще продолжал работу над "Путешествием в Арзрум" (1), и потому у писателя-декабриста фактически не было достойных предшественников, на опыт которых он мог бы опираться. И симптоматично, что поиски Пушкина-очеркиста и Марлинского-очеркиста шли в одном и том же направлении: в их путевых очерках, которые создавались почти одновременно, при всем разнообразии творческих методов писателей, имеются сходные моменты, которые в дальнейшем получат свое развитие в сочинениях русских очеркистов второй половины XIX в.
Так, известно, что в "Путешествии в Арзрум", как и в художественных произведениях, Пушкиным использован композиционный "прием возвращения", когда "конец гармонирует с началом" (В. Г. Белинский). Марлинский в путевых очерках также использует этот прием, но поскольку его "путешествие" состоит из отдельных озаглавленных очерков, то конец каждого из них гармонирует с началом следующего (2). Путевые записки Марлинского начинаются очерком "Прощание с Каспием". Автор не может отправиться в дальнюю дорогу, не попрощавшись с Каспием, своим "единственным другом в несчастьи" [6], с Дербентом, где он провел четыре долгих года. Марлинский прощается с ними, как с друзьями, и не стыдится своих слез. Конец этого очерка повествует о волнении моря, о волнах, едва не заливших автора вместе с его конем [6, с. 178]. О волнах, но уже не Каспия, а впадающей в него реки Самур, повествуется в начале следующего очерка "Путь до города Кубы". И здесь волны хотят поглотить автора с его конем, и здесь он благополучно выбирается на сушу [6. с. 179]. В конце очерка автор, простившись с Кубой, садится на коня: "Печать приложена, и кони уже у крыльца. Прощай, душа Кубушка. Очень мила ты: но если тебе не вздумается пожаловать ко мне в гости, в гости к тебе я уж, конечно, не приеду" [6, с. 201]. Соответственно, в самом начале следующего очерка - "Горная дорога из Дагестана в Ширван через Кунакенты" - он уже сходит с коня: "Долой с коня! Нет возможности держаться в седле по такой крути" [6, с. 202]. В конце "Горной дороги из Дагестана в Ширван через Кунакенты" Марлинский устами погонщика передает местную народную сказку о том, что однажды мужик черта перехитрил [6, с. 207-208], и соответственно в начале следующего очерка говорит о "чертовской дороге" [6, с. 209]. Конец этого очерка ("Последняя станция к старой Шамахе"), где повествуется о тихой и спокойной верховой езде автора и погонщика [6, с. 217], перекликается с началом "Переезда от с. Топчи в Куткаши": "Колыбельною иноходью шла моя лошадь" [6, с. 218]. В конце названного очерка автор после долгих приключений "спит как убитый" [6, с. 225], и потому начало следующего очерка "Дорога от станции Алмалы до поста Мугансы" напоминает сон: "Казалось, холмы несли меня вперед своею земною зыбью, принесли и отхлынули с берега валом" [6, с. 226].
В конце последнего очерка автор вновь готовится сесть на коня: "борзый конь взвился подо мною" [6, с. 237], и можно с полной уверенностью сказать, что следующий очерк, будь он написан, начался бы с описания верховой езды. Таким образом, "приемом возвращения" Марлинский как бы соединяет отдельные кавказские путевые очерки в единое "путешествие".
Рассматривая путевые очерки писателя в качестве единого произведения, нельзя не заметить, что первый из них - "Прощание с Каспием" - несколько выпадает из общего четкого ансамбля. Действительно, если в пяти следующих очерках описана собственно поездка, то в "Прощании с Каспием" никакой поездки нет: здесь описываются те мысли и переживания, с которыми автор отправляется в путь. Поэтому, думается, "Прощание с Каспием" было задумано автором как своеобразное предисловие, пролог, знакомящий читателей с душевным состоянием автора накануне поездки. Кстати, подобного рода предисловия встречаются в подавляющем большинстве "путешествий" прошлого века. Непосредственно после "Прощания с Каспием" следует очерк "Путь до города Кубы", которому предпослан эпиграф из Виктора Гюго: "Исполнение фальшиво, но песня правдива" [6, с. 179] (3). Этот эпиграф как нельзя лучше раскрывает содержание последующих очерков. С одной стороны, Марлинский со свойственной ему скромностью неоднократно заявляет в них о "слабости" своего пера, т. е. "фальшивости" исполнения [6, с. 185, 189], с другой стороны, в конце "Пути до города Кубы" (очерка, с которого, как мы видели, начинается поездка) Марлинский говорит: "...горы моих товарищей сочинителей походят на чердаки... а мне хочется прочесть их в оригинале" [6, с. 201]. Это стремление к "оригиналу", стремление к правдивому, достоверному, а где-то и к документальному изображению виденного - одна из отличительных сторон "путешествия" Марлинского.
Стремление к правдивости изображения ощущается как в точности и достоверности сведений историко-статистического, экономического и лингвистического характера, так и в подробностях передачи фольклорно-этнографического материала. В очерках Марлинского скрупулезно переданы обряды и обычаи жителей Кавказа, тщательно описаны их одежда и оружие, записаны и прокомментированы местные легенды и сказки. Так, в "Горной дороге из Дагестана в Ширван через Кунакеты" сначала упоминается местная легенда о том, что создатель чертова моста, построив его, сам сбежал "в отчаянии от смелости и хитрости человека" [6, с. 206], а затем излагается местная народная сказка о мужике и черте. В "Последней станции к старой Шамахе" сделана отметка и оставлено место для другой сказки - "Череп-часовой". Интерес писателя к фольклорным жанрам не случаен: он помогает ему постичь местное население, поскольку, по его мнению, "приличнейшая наука для человека есть человек" [6, с. 186]. Попытки узнать местное население Марлинский делал и в своем первом кавказском очерке "Письмо к доктору Эрману" (1831) и не оставлял их в путевых очерках 1834-1836 гг. Эти многолетние поиски помогли ему одним из первых в русской литературе прийти к мысли о необходимости решения кавказской проблемы, остро стоящей в 1820-1830-х гг., мирным путем: "Дайте Кавказу мир и не ищите земного рая на Ефрате... - он здесь, он здесь!" [6, с. 228].
В кавказских очерках Марлинского представители местного населения показаны в качестве положительных героев. Таковы Мулла-Нур из "Пути до города Кубы", Гайдар из "Рассказа офицера, бывшего в плену у горцев", защитники Дербента из "Писем из Дагестана". Этими положительными образами Марлинский хотел вызвать в русском читателе симпатию к кавказским народам, ибо понимал, что в дружеских и миролюбивых взаимоотношениях - единственный выход из создавшегося на Кавказе политического тупика.
За внешней простотой изложения в ориентальных произведениях писателя весьма часто проглядывают антиофициозные взгляды и мнения. Повествование ведется порой непоследовательно, автор перескакивает с одного предмета на другой, но внимательный читатель не мог не обнаружить в них крамольную мысль. Например, в безобидных на первый взгляд "мечтах и рассуждениях" по дороге на Кубу читаем: "Я видел одну чувствительную даму, которая чуть не оторвала
мальчику ухо за то, что он не успел выхватить муху, попавшую в сеть паука; знал другую, которая отдала в солдаты своего кучера, зачем он, на катанье по Невскому, затоптал санями голубя... Совесть ей ни разу не представила осиротевшую семью кучера" [6, с. 201]. Конечно, этим картинам далеко до обличений радищевского "Путешествия из Петербурга в Москву", но они, безусловно, восходят к ним.
Резко обличительны и строки, рассказывающие о политике царизма на Кавказе. Видя в присоединении к России единственный путь для прогресса на Кавказе, Марлинский, как декабрист-свободолюбец, не мог принять жестких методов, применяемых самодержавием в этом краю. Произведения писателя полны описаниями жестокостей царизма по отношению к аборигенам Кавказа: "Еще перепалка играла по лесу..., а дело грабежа и разрушения уже началось. Добыча в вещах, в деньгах, в рогатом скоте была огромна... Солдаты, татары, турки вытаскивали ковры, паласы, вонзали штыки в землю и в стены, ища клады, рыли, добывали, находили их, выносили серебро, украшения, богатые кольчуги, бросали одно для другого, ловили скот... более десяти тысяч рогатого скота досталось победителям. Медом и маслом хоть пруд пруди..., ветер взвивает муку вместо пыли" [6, с. 33]; "Грабеж и пожар, как два ангела истребителя, протекали Дювек из конца в конец. Деревня стала потухать. Развалины, углясь, дымили" [6, с. 25-26]; "Двенадцать деревень легли пеплом на след русских"; "Наконец, с разных сторон зажженный город вспыхнул, и черный дым пожара, сливаясь с белым пушечным дымом, повис над Тарками" [6, с. 27, 57].
Подобное отношение Марлинского к кавказской проблеме свидетельствовало о его верности идеалам декабризма в последекабристскую эпоху, ибо все описываемое в той или иной степени переломлено им через личные размышления. Правда, такое "авторское преломление" характерно для большинства кавказских произведений романтиков, однако образ автора у Марлинского отличается от образа автора у последних. У него каждый описываемый штрих - это реальный факт из собственной биографии, факт, за которым сам он порой не знает, что последует. Это создает ощущение, что его произведения пишутся на месте событий, что в них описывается только увиденное.
От романтических произведений 20-30-х гг. XIX в. очерки Марлинского отличаются еще и сознательным принижением восточной и, в частности, кавказской экзотики. Хотя романтический стиль писателя очевиден, его произведения содержат и определенные элементы реализма. Например, описывая военный пост, он иронически сравнивает его с таким излюбленным объектом романтических излияний, как караван-сарай.
Значительную роль в литературном освоении Кавказа сыграли повести Марлинского "Аммалат-бек" и "Мулла-Нур". Удачное замечание Н. Л. Степанова о том, что "для Бестужева Кавказ, жизнь кавказских народов имели тот смысл, что они в своей первобытной героической простоте противостояли жизни цивилизованного, утерявшего связь с народом и природой, светского общества" [7], как раз можно отнести к названным повестям. Герои этих произведений - Аммалат-бек и Мулла-Нур - сильные личности. Они как бы противопоставлены тем русским людям 1830-х гг., о которых М. Ю. Лермонтов напишет в своей "Думе": "Печально я гляжу на наше поколенье" [8]. Воспевать в условиях николаевской реакции сильных людей уже было гражданским подвигом, тем более, что это делал "государственный преступник", опальный писатель. Правда, по меркам света, и Аммалат-бек, и Мулла-Нур - преступники: первый вероломно убил своего благодетеля и друга Верховского, а второй вообще разбойник, грабящий проезжих. Но оба преступления оказываются строго мотивированными: Аммалат-бека обманывает коварный Султан-Ахмет-хан, выдвинувший целый ряд выдуманных обвинений против Верховского, а Мулла-Нур прячется в горах, поскольку, не вынося издевательств, унижений, оскорбленный со стороны родного дяди, был вынужден удалиться в горы.
Примечательно, что и Аммалат-бек и Мулла-Нур в общем-то хорошо относятся к русским и, в отличие от отрицательных героев повестей (Султан-Ахмет-хан, Садек), вовсе не видят в них врагов и завоевателей. Так, Аммалат-бека даже русский офицер называет "другом русских" [9]. Мулла-Нур же, по словам жителей Кубы, вообще оказывается человеком, симпатизирующим русским: "Еще замечательнее его (Мулла-Нура. - А. Г.) особенная благосклонность к русским. Он не только никогда не грабит их, но ласкает, провожает сквозь бурную реку, охраняет в опасных местах от наезжих разбойников; при расставании дает яблоко или гранат; скажет: "Помни Мулла-Нура!" - и был таков" [6, с. 198].
Ставя в центр своей художественной прозы таких героев (к ним можно отнести и героя "Рассказа офицера, бывшего в плену у горцев" - Гайдара), Марлинский пропагандировал декабристские взгляды на взаимоотношения с народами, населяющими окраины России.
Ориентальные произведения русских романтиков отличаются также стремлением внести в русский литературный язык восточные слова, и в первую очередь тюркизмы.
В русском языке тюркизмы издавна находятся под пристальным вниманием нашей филологической науки. Вместе с тем все еще не выполнен завет крупнейшего исследователя и знатока тюркских языков академика Н. К. Дмитриева, призывавшего к созданию "монографий по анализу тюркизмов в основных памятниках истории русской литературы" [10]. Важнейшим из таких "памятников", на наш взгляд, являются кавказские произведения русских писателей, создавая которые и романтики, и реалисты внимательно изучали местные языки.
Так, Марлинский в 30-е гг. прославился как большой знаток азербайджанского языка, однако интерес к восточным, в частности к тюркским, языкам он проявил гораздо раньше, в конце 1810-х гг. Не случайно в написанной в 1819 г. шуточной шараде с разгадкой "Агафон" писатель использовал такие слова тюркского происхождения, как "ага", "султан", "янычар":
Часть первая моя в турецкой стороне
Гроза для янычар и часто для султана;
Вы окончание хотите знать во мне?
Оно в Германии отличьем служит сана;
А целое мое - у россиян
Есть имя знатных и крестьян [6, с. 472].
В другой шараде, написанной в том же году, сама разгадка - слово "арак" - имеет тюркское происхождение:
Лишенный головы, ни рыба я, ни зверь,
Но ползаю в воде и в пищу пригожуся;
Мне дайте голову - с водой соединюся
И вас развеселю. Узнаете ль теперь?
[там же].
Поэтому закономерен тот факт, что, оказавшись по долгу солдатской службы в Азербайджане в 1830-1834-х гг., Марлинский всерьез занялся изучением местного языка [11].
Следует отметить, что интерес к восточным языкам проявляли и некоторые другие русские писатели, осваивавшие тему Востока. Приоритет в этом принадлежит Пушкину, хотя известно, что его знакомство с восточными языками носило довольно поверхностный характер. Несмотря на это, в "Кавказском пленнике" и "Бахчисарайском фонтане" можно встретить такие восточные слова и понятия, как хан, Коран (Алкоран), евнух, гарем, шербет, факир, Меква, аул, уздень, шашка, четки, чалма, причем некоторые из них (уздень, шашка, сакля, чалма, Коран) сопровождаются разъяснительными примечаниями.
Подобные восточные слова, большей частью без каких-либо разъяснений, можно найти почти во всех ориентальных произведениях русских писателей XIX в. Они представляют собой пример механического привнесения инонационального слова в русский литературный язык, своего рода дань пушкинской традиции. У Пушкина эти слова и понятия создавали чисто внешний, ориентальный колорит, и благодаря им достигалась особая манера изложения.
Стремясь постигнуть дух восточных народов, к изучению их языков приступил в свое время и Полежаев, однако это, скорее всего, были не систематические занятия, а определенное проявление писательского интереса. Как результат, в лексике его произведений появляется большое количество слов тюркского происхождения, взятых из речи различных народов: бешмет, булат, аул, шамхал, йок, рамазан, папаха, тахта, бер абазы, сакля, ахалук, ислам, вали, яман, якши, саман, аманат, алкоран, байрам, мечеть, алла, арба, парча, чурек. Некоторые из них были известны русским читателям как обрусевшие слова восточного происхождения, к тому времени уже вошедшие в русский язык, постоянно встречавшиеся в восточных произведениях русских писателей и поэтов (в частности, арба, парча, аманат, алкоран, алла, мечеть, байрам, ахалук (архалук), сакля, папаха, булат). Но другие слова были непонятны тогдашней читательской публике. Этого не мог не знать и сам Полежаев, однако почти ни одно из своих произведений он не сопроводил какими бы то ни было пояснениями. (Исключение составляет поэма "Эрпели", к некоторым тюркским словам которой даны авторские пояснения, разъясняющие локальное значение слов.). Поэтому обилие подобных слов в каждом произведении поэта, написанном на Кавказе, и отсутствие пояснений делают их инородным материалом в тексте.
Иными словами, произведения многих авторов пестрели словами и выражениями из восточных языков, но, несмотря на это, использование подобных слов Марлинским представляет особенный интерес, ибо никто из русских писателей по знанию этих языков не мог состязаться с ним, и потому важно проследить, как писатель, владеющий языком народа описываемого края, использует свои познания.
Знание языка, личное соприкосновение с бытом, обычаями, нравами, традициями азербайджанского народа сказались в значительном расширении Марлинским лексики своих произведений за счет тюркизмов. Знание азербайджанского языка давало писателю возможность знакомиться с азербайджанским фольклором непосредственно в непринужденных беседах с его носителями (4).
Уже через полтора года после приезда в Дербент Марлинский "порядочно понимал по-татарски (здесь и далее читай по-азербайджански. - А. Г.)" [12]. Глубокое знание писателем азербайджанского языка подтверждается азербайджанцем Аграимом (Агарагимом), посетившим по его просьбе братьев Николая и Ксенофонта Полевых для передачи адресованного им письма. Ксенофонт Полевой записал следующий свой разговор с Аграимом: "Хорошо ли он (Марлинский. - А. Г.) говорит по-татарски? - спросил я. - "Так же хорошо, как я", - воскликнул Аграим" [13].
Овладев в совершенстве азербайджанским языком, Марлинский невольно начинает отыскивать слова тюркского происхождения в русском языке: "Болтая по-татарски, я нашел, однако же, кучу слов их, запавших в наш язык так глубоко, что никто не сомневается в их некрещеном происхождении" [14]. Так что его можно считать первым исследователем тюркизмов русского языка. Используя эти так называемые устойчивые тюркизмы в языке своих произведений, Марлинский сопровождает их подробными разъяснениями (данными большей частью в сносках), в которых отыскивает их тюркские корни. К примеру, в примечаниях к слову "гайда" читаем: "Я думаю, почти все читатели знают, что турецкое, или, если угодно, татарское восклицание гайда, гай-да, значит ну! ну же! ступай! Те, кому это неизвестно, могут вспомнить, что сами они часто употребляют его, восклицая, например: "айда, молодец!" А из этого следует, что все они, себе неведомо, прекрасно говорят и пишут по-татарски" [6, с. 230] (5). Марлинский вносил свои языковедческие наблюдения в текст литературных произведений, видимо, потому, что не имел возможности заняться лингвистическими изысканиями из-за необходимости писательским трудом зарабатывать на хлеб насущный.
Известно, что в русском языке имеется довольно много слов тюркского происхождения. Эти слова проникли в русский язык много веков назад в эпоху татаро-монгольского нашествия. И в последующие годы количество слов тюркского происхождения в русском языке неизменно увеличивалось за счет развития торгово-экономических связей с тюркскими государствами, сближения с тюркоязычными народами Средней Азии. В начале XIX в. в состав России входят Азербайджан и ряд областей Северною Кавказа, населенных тюркоязычными народами (кумыки, балкары и т. д.). Марлинский был одним из первых русский писателей, попавших в эти новые области России, и естественно, что, овладев азербайджанским языком, он не мог пройти мимо того, чтобы не вводить в текст своих произведений местные слова и выражения.
Расширяя лексику своих произведений за счет тюркских слов и выражений, писатель использовал их, с одной стороны, для создания местного колорита, а с другой стороны, для обозначения неизвестных русскому читателю предметов и явлений восточной действительности. Для создания местного колорита Марлинский в кавказских очерках использует в большом количестве так называемые устойчивые тюркизмы - слова тюркского происхождения, которые издавна вошли в русский литературный язык для обозначения различных понятий, восходящих к восточным, и потому не нуждаются в разъяснениях. Это такие слова, как бек (6), чурек, ага, хан, сарай, арба, башмак, базар, гяур, курган, нагайка, нукер, папах (папаха), плов (пилав), янычар, селям, чалма.
Здесь же следует перечислить и некоторые слова нетюркского происхождения, также издавна вводимые в русский язык для обозначения восходящих к восточным понятий, которыми (правда, гораздо реже) пользуется Марлинский. Это слова абрек, бурка, сакля. Они были вполне понятны современникам писателя еще и потому, что ими неизменно широко пользовались многочисленные авторы кавказских произведений.
Широко использованы в кавказских произведениях Марлинского и устоявшиеся в русском языке слова персидского и арабского происхождения. В основном это слова, относящиеся к мусульманской религиозно-культовой терминологии, а также обозначающие различные восточные понятия. Думается, что и эти слова вводятся автором через посредство азербайджанского языка, поскольку все они бытуют в нем. Слова, обозначающие религиозно-культовую терминологию, употребляются писателем-декабристом довольно часто и, как правило, восходят к арабскому языку: аллах, мулла, мечеть, намаз, шариат, шейх, гурия, коран (7), факир. К словам, обозначающим различные восточные понятия, относятся персидско-арабские наименования по специальному признаку падишах, паша, сардар, кади, эмир, а также персидско-арабская терминология предметов быта (амбар), анбар, абаз, палас, парча, томан, чадра, духан, кинжал, караван (8). Характерно, что эти слова Марлинский не разъясняет читателям.
Другие тюркские слова, впервые вводимые писателем в русский литературный язык или малознакомые русским читателям, сопровождаются подробными разъяснениями, данными большей частью в примечаниях. Вот некоторые из них: "У бурдюков, то есть кожаных мехов, обыкновенно одна из четырех лапок служит краном" [6, с. 181]; "Доннух - жалование, чем бы оно ни выдавалось. Муштуллух - отдарок за приятную весть сукном, конем, оружием" [6, с. 199].
Впрочем, иногда, увлекшись своим знанием азербайджанского языка, Марлинский забывает дать перевод непонятных для непосвященных слов. Так, в некоторых произведениях без разъяснений и переводов даны такие непонятные для русского читателя слова и выражения, как "рахтар зерном", "абарат на русском и татарском языках", "мирзы на ферманах", "два агача, биюгюм" и некоторые другие [6, с. 198, 200, 206, 210]. Правда, перевод и разъяснение большинства таких слов можно найти в других, более ранних произведениях писателя-декабриста. Видимо, он считал, что его читатели внимательно следят за его произведениями. Так, в "Последней станции к старой Шамахе" Марлинский передает следующий свой диалог с погонщиком:
- Далеко ли в город?
- Два агача, биюгюм.
- Полно! Не слишком ли?
- А может и слишком: кто мерял!"
[6, с. 210].
Совершенно очевидно, что первый ответ погонщика мало понятен не знающему азербайджанский язык. Но внимательный читатель мог найти разъяснение этих слов в одном из примечаний к "Амалат-беку", увидевшему свет в 1832 г.: "Агач - семь верст. Он называется конным. Пешеходный - четыре версты" [6, с. 455].
Поскольку герои "Последней станции к старой Шамахе" едут верхом в Шамаху из близлежащей станции, автор удивляется названному погонщиком расстоянию до этого города - четырнадцать верст.
В других случаях перевод и разъяснения неизвестных русскому читателю слов даны в более поздних произведениях писателя. Так, в "Пути до города Кубы" (1836), передавая рассказы попутчиков о Мулла-Нуре, Марлинский отмечает, что последний "во время голода брал рахтар зерном со всех вьюков с пшеницей... и раздавал... самым бедным людям" [6, с. 198]. Объяснение выделенному слову можно найти в примечаниях к слову рахтар в "Мулла-Нуре" (1836): "Пошлина. В мусульманских провинциях не только провоз товаров через каждый город обложен ею, но, по старым правам, многие ханы взимают пошлину за переезд через свои владения" [6, с. 364] (9). Таким образом, Мулла-Нур, обложив пошлиной богатых людей, боролся с ними их же оружием.
Вообще в "Мулла-Нуре", последнем кавказском произведении писателя, особенно богатом азербайджанскими словами, буквально каждое слово тюркского происхождения сопровождается подробным разъяснением. Именно поэтому, вместе с разъяснением впервые вводимых в русский язык тюркизмов, Марлинский переводит и разъясняет те тюркские слова, которые были им раньше использованы без перевода и разъяснения. Так, в "Пути до города Кубы" писатель-декабрист без каких-либо разъяснений писал: "И вот передо мной абарат, на русском и татарском языках'' [6, с. 200]. Использовав это же слово в "Мулла-Нуре" ("Без абарата здесь и лбом ни одной двери не отворишь"), Марлинский сопровождает его следующим примечанием: "Абарат - необходимая вещь для путешественников по Азии: это предписание начальника округа или хана, чтобы вам давали ночлег, пищу и коней" [6, с. 372].
Однако большей частью неизвестные русскому читателю тюркизмы Марлинский, как правило, сопровождает разъяснениями. Причем в одних случаях автор ограничивается только переводом того или иного тюркизма на русский язык, помещая его в скобках непосредственно после нововводимого тюркизма: "они смутились, оробели... стали кричать "Аман (пощада)", махать шапками"; "бейдахдар (знаменщик)"; турецкая гайти (конница)"; "Кази-Мулла геляды (идет)"; "качты, качты (бежал)!" - раздалось со стен"; "Кара-полковник (то есть черный)"; "наследник майсумов (князей)"; "чап; чап! то есть марш, марш"; "под предлогом шариата, то есть толкования курана, проповедовал он ненависть к русским"; "Где же Шайтан-кюприси, чертов мост, которым меня столько пугали?"; "Югюрь, югюрь (бегом)!" - кричат со стены татары [6, с. 41, 34, 30. 13, 21, 206, 17] (10). В других случаях, наоборот, написав о чем-то по-русски, писатель, как бы вспомнив о своем знании азербайджанского языка, дополнительно дает тюркский вариант разъяснения: "табасаранские беки... избрали себе в главу, то есть в кадии, Исаи-бея": "царские пистолеты падишах тепенджи - так называют татары пушки"; "ну да это безделица, пуч зач"; "И ты получил уже уплату и подарочки, бир доннух, бир муштуллух, за свой прекрасный поступок?" [6, с. 46, 60, 210, 199].
Все авторские примечания и разъяснения сохранили свое значение для читателя, не владеющего азербайджанским языком, вплоть до наших дней, ибо, с одной стороны, они выполнены на высоком лингвистическом уровне, а с другой стороны, кавказские произведения Марлинского, как правило, издавались и издаются без сколько-нибудь подробных редакторских комментариев.
Наряду с вводом большого количества неизвестных русскому читателю тюркизмов, писатель в кавказских очерках занимается и образованием новых русских слов на основе тюркских корней. Эта словообразовательная работа проходит у него в двух направлениях:
1) из тюркских новые русские слова создаются по канонам русской грамматики. Например, духан - духанщик;
2) новые слова образуются из тюркизмов по канонам грамматики азербайджанского языка. Например, обращаясь несколько высокопарно к простому погонщику: "Чапар-хан, где же Шайтан-кюприси, чертов мост, которым меня столько пугали?", Марлинский в примечании к своему неологизму "чапар-хан" отмечает: "Чапар - гонец, извозчик, погонщик. Чапар-хане - почтовый двор" [6, с. 206].
В целом тюркизмы, впервые вводимые Марлинским в кавказских произведениях, можно разделить на следующие группы:
1. Слова, обозначающие действие. Никто из русских писателей, обращавшихся в прошлом веке к кавказской теме, не может сравниться с Марлинским в знании местных языков. Отсюда не только количественное, но и качественное различие в использовании слов тюркского происхождения. Если у большинства русских авторов, писавших о Кавказе, преобладают тюркизмы-существительные, то у автора "Аммалат-бека" встречаются самые разные тюркизмы: и существительные, и прилагательные, и глаголы. Если большинство русских авторов не передавало живую разговорную речь кавказских народов, то Марлинский часто и охотно вводит в свои произведения диалоги, монолог, просто отдельные предложения на азербайджанском языке. Широкое использование азербайджанских глаголов позволяет писателю донести до русского читателя динамику происходящего, а так как эти глаголы сопровождаются пояснениями и переводами (данными, как было показано выше, непосредственно после непонятного русскому читателю слова), то они отнюдь не загромождают текст.
2. Слова, обозначающие некоторые абсолютно неизвестные русскому читателю предметы и понятия (духан, падишах-тепенджи, абарат, рахтар, гайта, мензиль, магал, фирман, томан).
3. Слова, обозначающие наименование по социальному признаку, неизвестные русскому читателю (юзбаши, пир, майсум, микелляр, назир, нукер, сардарь).
Часто и с подробными разъяснениями Марлинский дает географические понятия и названия кавказского края. В правописании последних писатель особенно точен, в отличие от своих собратьев по перу. При этом он не только старается дать верное написание местного названия, но и исправляет ошибки, допущенные его предшественниками. Не случайно уже в одном из ранних своих кавказских произведений - "Пути до города Кубы" - Марлинский высмеивает тех, кто путает кавказские географические названия: "...между дюжинами адресов один другого курьезнее, как, например: в Грузию, в Дербенъ, на остров Кубу, что в Персии, на Кавказской линии и тому подобных..." [6, с. 196] отыскивает он свою корреспонденцию. Писатель дает разъяснения некоторых географических наименований и названий: "Дагестан, то есть страна гор" [6, с. 6]; "тавлинцы (от тав - гора)" [6, с. 5]; приводит для сравнения местный и русский вариант их прочтения: река Самбур - Самур; Лезгистан - Легзия, причем во многих случаях отдает предпочтение местному варианту, например, он пишет Шамаха, а не Шемаха. Поэтому неудивительно, что все географические названия и понятия в кавказских очерках Марлинского тщательно выверены и точны и их можно найти и на современных географических картах Азербайджана и Дагестана: Баку, Дербент, Шах-даг, Ширвань, Алты-Агач, Кунакент, Гусари, Куба, Апшерон, Ели-су, Кази-Кумык, Топчи, Топдаг, Тарки.
В кавказских произведениях Марлинский приводит также свои наблюдения над особенностями азербайджанского языка. Так, описывая город Куба, он пишет: "Улицы... Дай бог памяти, есть ли, полно, там улицы? По крайней мере, дыры, сквозь которые лазит православный и правоверный народ, воистину достойны изучения, хотя изучение их во сто крат отчаяние татарских деепричастий" [6, с. 194]. В другом месте, пересказав по-русски следующие слова своего погонщика: "С разбитым носом и поджавши хвостик, удирал, убежал он (черт. - А. Г.) в город", писатель в примечании отмечает, что азербайджанцы "беспрестанно употребляют плеоназмы: гюр, бах (гляди, смотри), ишляди, куртады (сделал, кончил) и т. п. вы услышите десять раз в минуту" [6, с. 206].
Подобные замечания мог сделать только человек, в совершенстве владеющий языком. В кавказских произведениях Марлинского много фактов, говорящих о глубоком знании автором азербайджанского языка: "Меня очень любят татары за то, что я не чуждаюсь их обычаев, говорю их языком" (11); "Когда я заговорил по-татарски... у него упали руки при мысли, что я могу без толмача пересказать его женам вздоров с три короба": "Мне хотелось променять с чиркейцами несколько слов, и я обратил речь к молодому человеку..."; "Желая, однако ж, узнать мнения дербентцев... я нередко, нахлобучив папах на брови, закутан в татарскую чуху, вмешивался в толпу и прислушивался к народным толкам" [6, с. 21, 225, 42, 13].
Таким образом, в кавказских произведениях Марлинский, наряду с так называемыми устоявшимися тюркизмами, использовал большое количество слов тюркского происхождения, неизвестных русскому читателю. Тюркизмы в 30-е гг. становятся неотъемлемой частью творческой манеры писателя. Об этом свидетельствует тот факт, что в эти годы они встречаются и в его письмах, и в его произведениях, написанных на кавказскую тему (например, в повести "Фрегат "Надежда" [6, с. 87, 101], в письмах к Н. И. Гречу от 9.III.1833), Н. А. Полевому от 19.VIII.1831, К. А. Полевому от 23.XI.1833 [6, с. 647, 639, 658]).
Не все тюркизмы, как и слова восточного происхождения в целом, впервые введенные в русский литературный язык Марлинским в кавказских очерках, сразу закрепились в нем. Так, в "Толковом словаре живого великорусского языка" В. И. Даля нет таких использованных Марлинским слов, как бек, гурия, гяур, кади, мулла, падишах, палас, паша, сардар, селям, фирман, шариат, эмир [18]. В то же время в изданном в советское время "Толковом словаре русского языка" под редакцией Д. Н. Ушакова они имеются [19]. Это лишнее свидетельство языковой интуиции Марлинского, сумевшего за много лет вперед предугадать, какие слова войдут в русский литературный язык.
Отметим, что и "Аммалат-бек" и "Мулла-Нур" созданы в основном на фактах, взятых из реальной действительности, и не случайно первая повесть имеет подзаголовок "Кавказская быль", а вторая - "Быль". Реальность лиц и событий, описанных в этих повестях Марлинского, подтверждена многочисленными путешественниками и писателями: неким А. Б. [20], известным востоковедом И. Березиным [21], Я. Костенецким [22].
В целом деятельность Марлинского явилась важным звеном в развитии ориентальной темы в русской литературе, в приближении ее реалистического освоения. В произведениях писателя русский Восток получил наиболее полное отражение, и общее стремление русской литературы к реализму рано или поздно должно было коснуться и ориентальных произведений. Не случайно некоторые писатели, обратившиеся к ориентальной теме после Марлинского, в той или иной степени, сознательно или подсознательно, стремились в своих произведениях к ее реалистическому отображению.
ПРИМЕЧАНИЯ
1. В "Литературной газете" за 1830 г. ? 8 от 5 февраля был опубликован только небольшой отрывок из будущего "Путешествия в Арзрум", увидевшего свет в 1836 г.
2. Хотя путевые заметки Марлинского неоднократно становились объектом исследований, композиционно они рассмотрены не были.
3. Кстати, из всех кавказских путевых очерков эпиграф предпослан только "Пути до города Кубы". Это еще раз подтверждает нашу мысль о том, что "Прощание с Каспием" - своеобразное предисловие, а собственно "путешествие" начинается с "Пути до города Кубы".
4. Изыскания Марлинского в области азербайджанского языка почти не изучены нашей филологической наукой. Единственное исключение - вышеназванная монография М. З. Садыхова, в третьей главе которой вскользь говорится об этом.
5. Подробные наблюдения в гораздо большем количестве даны писателем в азербайджанской повести "Мулла-Нур" [6, с. 320, 331, 385, 372, 423, 448].
6. Слово "бек" встречается у Марлинского в двух транскрипциях: "бек" и "бей". Последняя явно восходит к азербайджанскому "бej".
7. Слово "коран" также встречается у писателя-декабриста в двух транскрипциях: "коран" и "куран". Последняя, по всей вероятности, восходит к азербайджанскому "гуран".
8. Слово "караван" встречается у Марлинского в двух транскрипциях: "караван" и "керван" ("керван-сарай"). Очевидно, что вторая транскрипция восходит к нормам азербайджанского языка: "керван", "кервансараj".
9. Хотя и очерк "Путь до города Кубы", и повесть "Мулла-Нур" датируются 1836 г., очевидно, что раньше был создан очерк. Как известно, именно на основе материалов о Мулла-Нуре, записанных по дороге в Кубу, и была создана повесть.
10. Подобный прием использовали и другие авторы, писавшие о Востоке. Так, брат Марлинского Петр Бестужев в своих "Памятных записках 1828-29 годов" писал: "Гед! гед (ступай вон, убирайся), - ревел остервенелый янычар, - не мы звали вас сюда - вы пришли сами! Ступай! Говорю я... Мы докажем, что умеем защищаться!.." [15]. С другой стороны, у В. Диттеля в "Очерке путешествия по Востоку" читаем: "Только что мы успели отойти от берега шагов на тридцать, как между солдатами поднялся крик: "гытты! гытты! (ушел)"" [16].
11. Эти строки подтверждает известный историк кавказских войн В. А. Потто: "Бестужев почти не сходил со стен... Но еще чаще он выходил из города, пользуясь своим влиянием. Татары его любили и за его отчаянную смелость, и за то, что он не чуждался их обычаев, и за то, что свободно говорил на их языке, умел острыми шутками поддержать их дух" [17].
ЛИТЕРАТУРА
1. Григорьев А. А. Взгляд на русскую литературу со смерти Пушкина // Григорьев А. Литературная критика. М., 1967. С. 159.
2. Алексеев М. П. Этюды о Марлинском. Иркутск, 1928. С. 32.
3. А. Б. (А. Бестужев). Часы и зеркало // Северная пчела. 1830. ? 15. 30 янв.
4. Домановский Л. В., Маслин Н. Н. Примечания к Письму к доктору Эрману // Бестужев-Марлинский А. А. Сочинения. М., 1958. Т. 1. С. 614.
5. Броневский С. М. Новейшие географические и исторические сведения о Кавказе: В 2 т. М., 1823.
6. Бестужев-Марлинский А. А. Сочинения. М., 1958. Т. 2. С. 176.
7. Степанов Н. Л. Писатель-декабрист А. Бестужев-Марлинский // Степанов Н. Л. Поэты и прозаики. М., 1966. С. 206-207.
8. Лермонтов М. Ю. Полное собрание сочинений. М., 1948. Т. 1. С. 31.
9. Бестужев-Марлинский А. А. Сочинения. Т. 1. С. 434.
10. Дмитриев Н. К. О тюркских элементах русского словаря // Дмитриев Н. К. Строй тюркских языков. М., 1962. С. 508.
11. Подробнее об азербайджанских отношениях Марлинского см. монографии: Попова А. В. Русские писатели на Кавказе. Вып. 1. А. А. Бестужев-Марлинский. Баку, 1949; Садыхова М. 3. Писатели-декабристы и Азербайджан. Баку, 1967.
12. Русский вестник. 1861. Т. 31, март. С. 298. Письмо к братьям Н. А. и К. А. Полевым от 23 апреля 1831 г.
13. Русский вестник. 1861. Т. 32, апрель. С. 322.
14. Русский вестник. 1861. Т. 31, март. С. 299. Письмо к Н. Полевому от 28 мая 1831 г.
15. Воспоминания Бестужевых. М., 1951. С. 344.
16. Библиотека для чтения. 1848. Т. 95. С. 38.
17. Газ. Кавказ. 1897. ? 322. 3 ноября.
18. Даль В. Толковый словарь живого великорусского языка: В 4 т. 2-е изд. СПб.; М., 1880.
19. Толковый словарь русского языка: В 4 т. М., 1935.
20. Кавказ. 1846. ? 8.
21. Березин И. Путешествие по Дагестану и Закавказью: В 2 т. Казань, 1850.
22. Русская старина. 1890. ? 11. С. 441-457.
19 октября 2000 г.
источник: Научная мысль Кавказа: Научный и общественно-теоретический журнал - Ростов н/Д.: Северо-Кавказский научный центр высшей школы, 2001. N 1 (25)
-
23 ноября 2024, 11:06
-
23 ноября 2024, 08:21
-
22 ноября 2024, 19:14
-
22 ноября 2024, 17:39
-
22 ноября 2024, 16:37
-
22 ноября 2024, 15:43